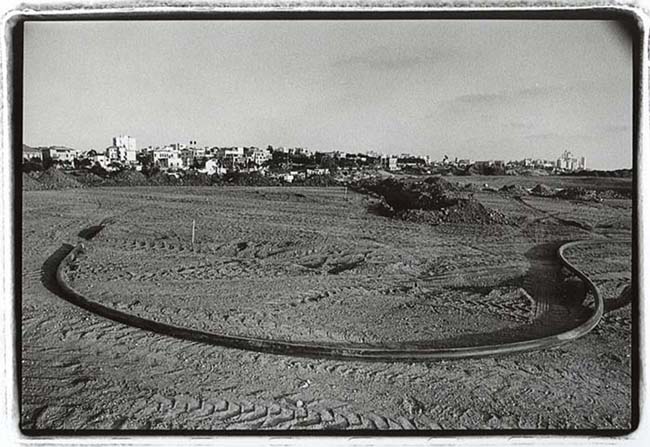Люди покидают свои дома по принуждению или по собственной воле. Для евреев оба этих мотива были существенны в полной мере. Движимый собственной нелегкой судьбой, под давлением окружения, еврей был также наделен повышенной долей того любопытства и природной непоседливости, которые часто провоцируют людей добровольно отправляться в дальние и многотрудные странствия. Таким образом, он исполнял свою роль Вечного Жида и вынужденно и, нередко, вполне охотно. Ему нравилось быть гражданином мира, а мир отказывал ему в том единственном месте, которое он мог бы по праву назвать своим.
Гонимое измученное племя,
Где сбросишь ты скитаний долгих бремя?
Нора есть у лисы, гнездо – у птицы,
А у тебя остались лишь гробницы.
(Дж. Г. Байрон. Из «Еврейских мелодий». Перевод Георгия Бена)
Средневековая история наполнена вынужденными странствиями гонимых сынов Израиля. Но нас занимает не жертва преследований и гонений. Путник, о котором пойдет речь – не изгнанник, но путешественник, движимый лишь собственной прихотью. Он вызовет наше восхищение и, возможно, наше сочувствие, но лишь изредка заставит прослезиться. Тема данного эссе – странствия, но не странники, и я намерен вести речь не о самих путешественниках, но о характере их путешествий, о тех условиях, в которых они совершались.
Перед тем как покинуть дом, еврейский путешественник в Средние века обязан был запастись двумя разновидностями паспорта. В те дни ни одна из стран не предоставляла никому настоящей свободы передвижения. Еврей был попросту несколько более скован в этом вопросе, чем другие. В Англии еврей платил феодальный налог, прежде чем выйти в море. В Испании система сборов была чрезвычайно развита – ни один еврей не имел права без специальной лицензии поменять место жительства, даже в пределах одного города. Но вдобавок к государственным налогам, евреи выработали собственные законы, заставлявшие членов общины получать специальное разрешение на выезд.
Причины тому были просты. Прежде всего, еврей не имел права по собственной воле покинуть свою общину, свалив весь гнет королевских поборов на плечи счастливо остающихся. Посему во многих частях Европы и Азии ни один еврей не мог двинуться с места без письменного одобрения своей общины. Его получение, как правило, было обусловлено обещанием путешественника выплачивать долю общественных сборов и в период своего отсутствия. Иногда такой закон применялся и к женщинам. Например, в том случае, когда жительница одного города, выходя замуж, отправлялась жить в другой, ей следовало выделить часть полученного от жениха по брачному контракту капитала на нужды родной конгрегации, если только речь не шла об отъезде в Палестину. Кроме того, существовали иные моральные и коммерческие причины еврейских ограничений свободы передвижения. В синагоге было принято объявлять перед всей общиной о том, что такой-то и такой-то собирается уезжать, и всякий, имеющий к нему претензии, может требовать удовлетворения. Не следует, однако, думать, что такие общинные лицензии не оказывали услуги самому путешественнику. Напротив, они зачастую обеспечивали ему радушный прием в чужих городах, а в Персии служили залогом безопасности – ни один мусульманин не посмел бы игнорировать подорожную, заверенную печатью еврейского патриарха.
По получении двух лицензий – государственной и синагогальной – путешественнику следовало позаботиться о своем костюме. «Одевайся поплоше» — такова была обычная еврейская максима для путника. Насколько такое правило было необходимым можно видеть на примере произошедшего с рабби Петахией, около 1175 года путешествовавшего из Праги в Ниневию. В Ниневии он занемог, и осмотревшие его шахские доктора объявили летальный исход неизбежным. Петахия путешествовал в весьма дорогостоящем платье, а в Персии существовал закон, по которому, если умирал еврейский путешественник, врачи получали половину его имущества. Осознав угрожавшую ему опасность, Петахия поспешил ускользнуть от навязчивых забот монарших докторов, самостоятельно переплыл Тигр на плоту и вскоре поправился. Совершенно очевидно, что для еврейского путешественника было рискованно возбуждать алчность правителей или бандитов ношением богатых одежд. Но, кроме того, еврею предпочтительно было вообще скрывать свое еврейство. Еврейское общественное мнение и законодательство по этому поводу были весьма гибки и не препятствовали своему единоверцу, присоединяясь к христианским караванам, притворяться даже служителем церкви и напевать, в случае необходимости, латинские гимны. В особо опасных случаях он мог повязать тюрбан и имитировать магометанина даже в родных местах. Наиболее замечательным кажется правило, позволявшее еврейке наряжаться в пути мужчиной. Местные законы тоже в какой-то степени учитывали путевые опасности. В Испании еврею разрешалось снимать в пути желтую повязку; в Германии он пользовался той же привилегией, но обязан был за нее заплатить. В некоторых краях эту привилегию приобретала для своих членов еврейская община, восполняя затраты коммунальным сбором. В Риме приезжему разрешалось ходить без повязки первые десять дней по приезде. Однако эти послабления не распространялись на рынки. Еврей создал рынки Средневековья, но был принят на них как нежеланный гость, как «товар», подлежащий налогообложению. Особенно явно это проявлялось в Германии. В 1226 году Лоренц, епископ Бреслау, повелел следовавшим через его владения евреям платить такую же пошлину, какая взималась за продававшихся на рынке рабов.
Еврейский путешественник обычно оставлял жену дома. В некоторых обстоятельствах он мог принудить ее отправиться в путь вместе с собой – например, если он решал поселиться в Палестине. В то же время, жена могла не позволить мужу оставить ее в первый год совместной жизни. Случалось и так, что в дорогу отправлялись целые семьи, однако чаще всего еврейка оставалась дома и лишь изредка участвовала в паломничестве в Иерусалим. Это резко контрастирует с христианским обычаем, ибо христианская женщина была наиболее рьяным пилигримом. На самом деле, паломничества в Святую Землю стали популярны в церковных кругах только благодаря энтузиазму Елены, матери императора Константина, в особенности после того, как в 326 году она нашла «подлинный» крест. Мы, однако, читали о престарелой еврейке, объехавшей большую часть Европы ради того, чтобы помолиться во всех встреченных на пути синагогах.
Сегодня мы знаем из Хроник Ахимааза, что евреи посещали Иерусалим в X веке. Арониус свидетельствует о любопытном происшествии. Между 787 и 813 годами Карл Великий повелел еврейскому купцу, часто посещавшему Палестину и привозившему оттуда дорогие и диковинные товары, разыграть архиепископа Майнцкого, чтобы сбить спесь с этого самодовольного дилетанта. Итак, еврей продал ему за изрядную цену мышь, уверяя, что это редкое животное, привезенное из Иудеи. В начале XI века в Рамле, в четырех часах пути от Яффы, существовала организованная еврейская община с раввинским судом. Но число посещавших Палестину евреев было невелико до тех пор, пока к концу XII века Саладдин окончательно не вернул страну под власть ислама. С тех пор паломничества евреев стали частыми, но подлинный их приток в Святую Землю начался с 1492 года, когда там осело множество изгнанников из Испании, заложивших основу нынешней сефардской общины.
В целом, в Средние века путешествие в Палестину было сопряжено с такими опасностями и лишениями, что решение оставлять жен дома можно считать галантностью со стороны мужей. Да и вообще, еврей, отправлявшийся в дальний путь, чтобы обеспечить семью, не мог позволить жене разделить с ним дорожные тяготы и опасности. В месяце элуле, в 1146 году по христианскому летоисчислению, рабби Симон Благочестивый возвращался из Англии, где прожил много лет, и в ожидании корабля, отправлявшегося в его родной Трир, остановился в Кельне. Неподалеку от Кельна он был убит крестоносцами за отказ принять крещение. Еврейская община города выкупила его тело, чтобы похоронить на еврейском кладбище.
Несомненно, разлуки между супругами были жестокой необходимостью. Еврейский закон, даже в тех странах, где моногамия не была ультимативным требованием, не позволял еврею обеспечивать себя одной женой дома и другой заграницей. У Иосифа Флавия, как нам известно, была одна жена в Тверии и другая в Александрии, подобно обычаю, принятому среди имперских чиновников Рима; однако Талмуд безоговорочно запрещает такую практику, при этом, не запрещая мужчине иметь дома более одной жены. Нам известен случай, когда жена, взбунтовавшаяся в мужнино отсутствие, завела себе нового супруга. В 1271 году Исаак из Эрфурта отправился в торговое путешествие и, хотя он отсутствовал дома лишь с 9 марта до июля следующего года, вернувшись, обнаружил, что жене надоело его ждать. Такие случаи были весьма редки, гораздо чаще случались прямо противоположные. В отсутствие супруга, женская доля была, прямо скажем, незавидной. «Возвращайся или пришли мне развод», — писала одна женщина. «Нет», — отвечал ее муж, «я не волен сделать ни того, ни другого – я еще не добыл для нас достаточно средств, дабы вернуться, но, пред Небесами, люблю тебя и не могу с тобою развестись». Раввин рекомендовал ему дать ей условный развод, предоставляющий ей право на другой брак. в том случае, если он не вернется до определенной даты. Раввины придерживались того мнения, что путешествия наносят ущерб семейной жизни, собственности и репутации. Раввинистическая пословица гласила: «Переезжай из дома в дом – и ты потеряешь рубашку; переезжай из города в город – и ты потеряешь жизнь».
Независимо от того, каковы были цели еврейского путешествия, религиозные ритуалы с самого начала занимали важное место в его подготовке. Дорожная молитва, ведущая свое происхождение из Талмуда, широко известна и потому не требует цитирования. Но один ее раздел столь точно передает в нескольких словах всю степень опасности, что их необходимо здесь привести. Приближаясь к городу, еврей молился: «Да будет воля Твоя привести меня в сохранности в этот город». Войдя в него, он молился: «Да будет воля Твоя вывести меня в сохранности из этого города». А когда он на самом деле удалялся из города, то с благодарностью еще раз повторял столь патетичные и полные горького значения слова.
В первом веке христианской эры многочисленные путешествия сопровождались денежным пожертвованием на храм, посылаемой каждым евреем почти из всех точек обитаемого мира. Филон пишет о евреях по другую сторону Евфрата: «Ежегодно оттуда отправляются посыльные для передачи больших сумм золота и серебра, собранных для храма со всех провинций. Едут они по опасным, трудным и почти непроходимым дорогам, которые, однако, мнятся ими легкими и удобными, ибо прямо ведут их к праведности».
Для облегчения пути применялись и иные методы. Часто дорога сокращалась в воображении путников имевшей широкое хождение верой в то, что можно уменьшить расстояние сверхъестественным путем. О рабби Натронае рассказывали, что он мог в один миг преодолеть расстояние, требующее нескольких дней пути. Биньямин из Туделы рассказывает о том, что Альрои, в XII веке объявивший себя мессией, умел не только становиться невидимым, но и, при помощи Божьего Имени, проделывать десятидневный путь за десять часов. Один еврейский путешественник успокоил шторм на море, произнеся Сакральное Имя, другой – написав это Имя на черепке и бросив его в пучину. «Не тревожься», — сказал он в другой ситуации своему арабскому спутнику, когда на исходе пятницы стали спускаться сумерки, а они всё еще были далеко от дома, «не тревожься, мы прибудем до наступления темноты», и силой сверхъестественного сдержал свое обещание. У Ахимааза мы читаем о подвигах еврея, в X веке странствовавшего по Италии, творившего чудеса и повсюду принимавшегося с восторгом. Это был Аарон из Багдада, сын мельника, который, обнаружив, что лев пожрал крутившего мельничное колесо мула, поймал хищника и заставил его самого выполнять эту работу. Отец, в наказание за занятия магией, на три года отправил его странствовать. Аарон взошел на борт корабля, заверив моряков, что им не следует страшиться ни врагов, ни шторма, ибо он умеет пользоваться Именем. Он сошел на итальянский берег в Гаэте, где вернул человеческий облик человеку, которого ведьма превратила в осла. Это было началом множества чудес. После того он объявился в Бенвенуто. В местной синагоге он обнаружил, что некий юноша, молясь, избегает произносить Божье Имя, тем самым выдавая в себе мертвеца! Затем наш путник идет в Орию, в Бари и так далее. Подобные дива дивные рассказывались и в мидрашах, и в житиях христианских святых.
Но еврей располагал и вполне реальным средством для сокращения пути – увлекательной и поучительной беседой. Мудрецы наставляли: «Не путешествуй с невеждой». Такой спутник, по их мнению, не только мало заботится о безопасности в пути, но и слишком скучен в разговоре, так что путешествовать с ним вместе ничуть не лучше, чем в полном одиночестве. Но Тора повелела говорить о заповедях Божьих в пути, и это, не менее, чем дорожные опасности, делает путешествие в одиночку нежелательным. Мишна осуждает того, кто в пути отвлекается от милой сердцу перипатетика ученой беседы, ради того, чтобы насладиться лицезрением дерева или оленя. Это вовсе не означает, что все евреи были безразличны к красотам природы. Еврейские путешественники часто описывают пейзажи тех мест, в которых они оказываются, и Петахия буквально упивается прекрасными садами Персии, живописуя их яркими красками. Не много найдется описаний шторма на море, равных тому, что во время своего фатального путешествия в Святую Землю оставил Иегуда Галеви. Также и Альхаризи – другой еврейский путешественник, обошедший полмира, слагал на ходу стихи, чтобы унять усталость. Он, возможно, — самый занятный из всех еврейских путешественников. Что может сравниться с его манерой судить о характере встреченных им людей по их гостеприимству или негостеприимству по отношению к себе! Более серьезный путешественник – Маймонид (Рамбам) – вероятно, немало проведенного в седле времени уделял размышлениям, отразившимся в его бессмертных книгах. Он сам сообщает нам, что часть его комментариев к Мишне составлена во время странствий по суше и по морю. Европейские раввины часто служили нескольким соседним общинам, и в свои поездки от одной к другой брали с собой книги для изучения. Магарал (рабби Лёв из Праги) в таких поездках всегда вел записи о замеченных по пути местных обычаях евреев. Этот прославленный раввин был также весьма искусным и успешным шадханом — сватом, и его постоянные переезды создавали для этой деятельности прекрасные условия.
Другим типом путешественника на короткие дистанции был еврейский студент – бахур ешива. Не то чтобы его поездки всегда были короткими, но он редко отправлялся за море. Во втором веке еврейские студенты в Галилее вели себя подобно многим шотландским юношам до возникновения Фонда Карнеги. Они учились в Сепфорисе зимой, а летом работали на полях. После всеобщего обнищания в результате войн Бар Кохбы, они рады были кормиться за столом богатого патриарха Иуды I. Подобное происходило и в средние века. Эти бахурим, зачастую женатые, сколь бы молоды они ни были, проходили пешком огромные расстояния. Они ходили с Рейна в Вену и из Северной Германии в Италию. Их путевые лишения не поддаются описанию. Естественно, они страдали от плохой погоды. Остававшиеся дома обращались к Богу с петицией: «Не слушай молитвы путников». Это странное талмудическое высказывание имеет в виду эгоизм странников и путников, вечно моливших о хорошей погоде, когда земледельцам был необходим дождь. Кроме погоды бахурим страдали от голода – их обычной пищей были сырые овощи, добытые на полях. Часто их учителя были их спутниками и переносили все те же лишения. В отличие от их предшественников эпохи Талмуда, они много путешествовали ночами, и потому, что это было безопаснее, и потому, что дневное время они отводили для занятий. Диетарные законы делали еврейское путешествие особенно хлопотным. Конечно, евреям приходилось останавливаться на обычных постоялых дворах, но они не могли присоединиться к другим постояльцам за tbl d’hote. Суббота тоже осложняла условия путешествий, и особенно важно было достичь какой-либо еврейской общины до окончания пятницы, иногда, как мы уже видели, с помощью сверхъестественных сил.
В самый последний год IV века Синезий, он же Кирен, в письме своему брату, писанному на пути из Александрии в Константинополь, дает нам замечательный пример того, насколько суббота занимала еврейского путешественника. Саркастический тон Синезия не следует воспринимать как проявление серьезной враждебности. Жаль, что пространство данного эссе не дает возможности процитировать это повествование полностью. Его еврейский рулевой, тринадцатый член корабельного экипажа, более половины которого составляли евреи – весьма занятный персонаж. «Был день, коий евреи именуют днем приготовления [пятница], и они считают ночь его частью следующего дня, в коий им запрещено исполнять всякую работу, и они пребывают в праздности, оказывая этому дню особый почет. Посему рулевой, заметив, что солнце заходит, выпустил из рук своих штурвал, пал ниц и не двигался, хоть топчи его ногами! Сначала нам было невдомек, в чем дело, и мы приняли это за знак отчаяния, и приступили к нему с уговорами не оставлять надежды. Ибо, действительно, высокие валы продолжали бушевать, и море боролось само с собою. Так бывает, когда стихает ветер, но поднятые им волны не унимаются, но продолжают следовать вызванному им направлению, и с прежней силою встречают натиск встречного шторма, сходясь с ним в лобовой атаке. Что ж, когда люди оказываются в подобной ситуации, жизнь, как гласит древнее речение, висит на волоске. Но ежели рулевой ваш, в добавок ко всему, – рабби, что ощутили бы вы тогда? Поняв, что он имел в виду, бросая штурвал (ибо, когда мы стали умолять его спасти корабль, он продолжал читать свою книгу), мы, отчаявшись в силе убеждения, попытались применить силу. И доблестный солдат (ибо с нами было несколько арабских кавалеристов) вынул свою саблю и пригрозил снести ему голову, буде он не возьмет корабль в свои руки. Но тот в эту минуту был истинным маккавеем, готовым на всё ради своей догмы. Однако с наступлением полночи он добровольно вернулся на свой пост, ибо, объявил он, ‘теперь закон дозволяет мне это, ибо жизнь наша воистину находится в опасности’. Тут снова начинается суматоха, стоны мужчин и вопли женщин. Все принимаются взывать к небесам, причитать и вспоминать своих любимых и близких. Один Амарант весел, полагая, что скоро он оставит с носом своих кредиторов». (Амарантом звали капитана, желавшего умереть из-за того, что пребывал по уши в долгах.) Итак, с беззаботным капитаном, с рулевым-маккавеем и с ироничным наблюдателем, рьяным приверженцем Гипатии, путешествие редко проходило в более оживленных условиях. Как это часто бывает, комизм ситуации почти заслоняет тот факт, что жизнь персонажей действительно была в реальной опасности. Но всё закончилось хорошо. Синезий продолжает: «Что до нас, то, как только мы достигли долгожданной земли, мы облобызали ее так, словно она была нашей живой матерью. Вознося, как водится, благодарственный гимн Господу, я добавил к нему недавнюю смертельную опасность, от которой мы были, паче чаяния, спасены».
Давайте вернемся от рабби-рулевого к нашему странствующему студенту. В дороге он часто подвергался нападению, но, как это случилось с сыном великого Ашери, атакованного около Толедо бандитами, грабители не всегда одерживали верх в схватке. Бахур мог постоять за себя. Один еврей заслужил большую славу, сопровождая из Багдада во Францию слона, посланного Гаруном Аль-Рашидом в подарок франкскому королю Шарлеманю. Но религия причиняла еврею много забот в пути. Доктор Шехтер рассказывает, как Гаон Элия вышел из своей повозки помолиться, а возница, зная, что рабби не станет прерывать своей молитвы, попросту уехал, присвоив имущество Гаона.
Но, страдая за свою религию, ученый еврей получал изрядную компенсацию. Прибывая к месту своего назначения, он удостаивался сердечной встречи. Мы читаем о том, с какой сердечностью принимали в Алжире XV-XVIII веков посланника из дома учения. Это было большим событием для всей общины, напоминающим нынешний визит инспектора Aliance Israelite.
Но вовсе не все еврейские путешественники могли рассчитывать на теплый прием своих соплеменников. Чем это можно объяснить? Главным образом, тем, что евреи, подобно прочим народам Средневековья, очень мало сознавали, что прогресс и просвещение неразрывно связаны со свободой передвижения, и воспринимали последнюю как прихоть немногих эгоистов, а не как законное право каждого. Более того, евреи были принуждены жить в условиях, в которых нелегко было найти место для новоприбывших. Когда случался кризис, подобный изгнанию из Испании, евреи щедро помогали изгнанникам. Общины по всей Европе и по всему Средиземноморью тратили огромные деньги, силы и время, выкупая несчастных жертв, захваченных в рабство капитанами увозивших их из Испании кораблей. Это славный факт еврейской истории. Он, однако, не отменяет того факта, что в обычные времена еврейские общины крайне неохотно допускали на своей территории новые поселения собственных иноземных братьев. Всё было иначе в древние времена. Среди ессеев, например, новоприбывший имел во всем равные права со старожилами. Эти ессеи были великими странниками, переходившими из города в город, возможно, с миссионерскими целями. В талмудическом законе существуют четкие правила, касательно проезжих и иммигрантов. По этим законам, остававшиеся в городе менее тридцати дней были освобождены от всех местных сборов, кроме специальных пожертвований в пользу бедных. Остававшийся менее чем на год, вносил долю в обычный сбор в пользу бедных, но был освобожден от налогов на оборону, на ремонт городских стен и тому подобного, а также не платил взносов ни на жалование для учителей и чиновников, ни на строительство и содержание синагог. Но и права его были столь же невелики, как и обязанности. После двенадцати месяцев пребывания, он становился «сыном города» — полноправным членом общины. Однако в Средние века, как уже говорилось, новоприбывший обычно был нежеланным элементом. Проблема места была важной тому причиной, поскольку все новички должны были оставаться в пределах выделенного для евреев гетто. Во-вторых, пришелец плохо поддавался дисциплине. Местные обычаи сильно разнились в деталях как еврейского, так и общего законодательства. Новый поселенец мог требовать для себя права придерживаться своих прежних обычаев, и приверженность к местным обычаям была настолько сильна повсюду, что эти требования зачастую удовлетворялись, что вело к разрушению единства и к ослаблению власти. Так, например, новоприбывший мог настаивать, что, поскольку он играл в карты в своем родном городе, он не обязан следовать царящим на новом месте пуританским запретам. В результате этого, местные евреи могли начать возмущаться приезжими, пользующимися специальными привилегиями, поскольку из-за них сводились на нет все усилия по борьбе с азартными играми. Или приезжий мог настаивать на бритье бороды, согласно традиции своей родины, что вызывало скандал в том городе, где он останавливался. Местная молодежь могла начать подражать иностранцу! То же самое могло произойти, если приезжий носил одежду или украшения, запрещенные местным евреям. К тому же, могли возникнуть брачные проблемы, когда злонамеренные женатые иностранцы прикидывались холостяками. Что до литургии, то община часто распадалась из-за отдельных служб, устраиваемых группами чужаков, и приходилось запрещать членам местной общины посещать синагоги иностранных поселенцев. Баланс коммунальных налогов также нарушался с появлением посторонних, часто вызывавшим ложившиеся на плечи старожилов новые поборы со стороны правительства.
Конечно же, противостояние не было ни постоянным, ни однозначным. В Риме итальянские и сефардские евреи по-братски располагали свои синагоги на двух этажах одного и того же общего здания. В некоторых немецких городах иностранная синагога строилась на одном общем дворе с местной. Повсюду жили целые сообщества иноземных евреев, и повсюду истинный путешественник мог найти радушный прием.
Что до странствующего нищего, то он был постоянной обузой, но к нему относились с изрядной долей снисхождения и заботы. Он никогда не стремился осесть на месте – странствие было его ремеслом, приносившим пропитание. Его устраивали на пару дней на общинном постоялом дворе или, если он появлялся перед наступлением субботы, как это часто случалось, его привечал какой-нибудь гостеприимный горожанин или синагогальный служка. Только с XIII века появляются постоянные посланцы, собирающие пожертвования для жителей Палестины.
Так или иначе, желанным гостем всегда был подлинный путешественник. Если он появлялся в ярмарочный день, то почти всегда освобождался общиной от уплаты местных налогов. И он заслуживал гостеприимства, поскольку появлялся нагруженным не только новыми товарами, но и новыми книгами. Ярмарка была единственным в те времена книжным рынком. В прочие сезоны евреи зависели от случайных заходов бродячих книгонош. Книготорговля не была респектабельным бизнесом в Средние века. Торговец, приезжавший на ярмарку, выполнял также функцию свата. День ярмарки был, в сущности, вершиной всего года. Естественно, радушно встречался и письмоносец. В самом начале XVIII века роль письмоносцев иногда исполнялась еврейскими женщинами.
Даже обычный путешественник, не побуждаемый каким-нибудь торговым предприятием, часто выбирал ярмарочное время для посещения новых мест, ибо тогда он наверняка мог повстречать самых интересных людей. Он тоже обычно появлялся на исходе пятницы и украшал день субботний рассказами о виденных им чудесах света. В большой синагоге Сепфориса Йоханан повествовал об огромной жемчужине, настолько гигантской, что восточные ворота храма должны были быть вырезаны из нее одной. «О да, о да», -подтвердил один из слушателей, слывший завзятым скептиком до пережитого им кораблекрушения, «если бы я своими глазами не увидел такую жемчужину на дне моря, то ни за что бы не поверил!» И вот средневековый путешественник рассказывает свои захватывающие дух истории о могущественнейшем еврейском царстве на Востоке, пребывающем в идиллии мира и благоденствия. Он возбуждает аудиторию новостями о последнем мессии; он описывает реку Самбатион, соблюдающую шаббат; смешивая правду с выдумкой, он сначала излагает подлинное происшествие, вспоминая, как сам переплыл реку на надутом козлином мехе, и тут же сочиняет с три короба о гробнице Гиллеля, о том, как он там был и как видел там большой полый камень, который остается пустым, если в него входит грешник, но при приближении праведника наполняется сладкой кристально чистой водой, омывшись которой можно удостоится исполнения загаданного при этом желания. Всех чудес, творящихся в гробницах, просто и не перечислишь! Евреи свято верили в их сверхъестественную силу, совершая к ним паломничества, чтобы помолиться и попросить о самом заветном. Рассказы средневековых еврейских путешественников до краев наполнены этими легендами. Конечно, путешественник приносил множество правдивых новостей о своих соплеменниках в разных частях света и достоверную информацию о дальних странах, об их обычаях, их странных птицах и тварях. Эти истории были в своей основе правдивыми. Например, Петахия рассказывает о летучем верблюде, который бегает в пятнадцать раз быстрее скаковой лошади. Должно быть, он видел страуса, до сих пор именуемого арабами «летучим верблюдом», и только совсем немного преувеличил. Но мы не имеем возможности надолго задерживаться на этой теме. Достаточно сказать, что, как только суббота заканчивалась, повествование путешественника записывалось местным писцом и хранилось в качестве одного из сокровищ общины. Путешественник, со своей стороны, часто вел дневник, и сам составлял описание своих приключений. В некоторых конгрегациях велась общинная книга записей, в которую заносились суждения и постановления заезжих раввинов.
Самыми желанными из гостей, даже более желанными, чем путешественники, повидавшие дальние края и объехавшие весь мир, были странствующие раввины. Большинство мудрецов Талмуда были странниками. Частые путешествия Акивы были, по распространенному мнению, предприняты ради привлечения евреев Малой Азии к восстанию против императора Адриана. Но мой рассказ в данном случае должен сосредоточиться на средневековых студентах – бахурим. Во многих общинах для них существовал специальный дом, в котором они жили вместе со своими учителями. В XII веке академия Нарбонна, руководимая Авраамом ибн Даудом, привлекала толпы иностранных студентов. Их, как рассказывает нам Биньямин из Туделы, кормили и одевали на средства общины. В Бокэре студенты жили за счет учителя. В XVII веке каждый дом принимал и развлекал за своим столом одного или нескольких студентов. В таких обстоятельствах жизнь их никак не могла быть скучной и монотонной. Еврейский студент переносил немало лишений, но знал, как подойти к жизни с ее лучшей стороны. Этот оптимизм и чувство юмора спасали рабби и его учеников от меланхолии. Взять, к примеру, Авраама ибн Эзру. Кому как не ему, казалось бы, было суждено стать горьким плакальщиком собственной судьбы, но он смеялся над нею. Покинув родную Испанию без гроша в кармане, он весело странствовал из страны в страну. Единственным его багажом были мысли. Он побывал во Франции и добрался даже до Лондона, где, вероятно, и умер. Фортуна не баловала его, но он находил немало радостей. На всем его пути покровители протягивали ему руку помощи.
Странствующие студенты встречали немало таких щедрых любителей учености, которые, не жалея средств, поощряли своих гостей к написанию оригинальных книг или к копированию старых, которые, в отсутствие библиотек, эти меценаты передавали неимущим ученым. Ходила легенда о том, как пророк Элия посетил Хеврон, но не был вызван к Торе в тамошней синагоге. Не получив «восхождения» на земле, он вернулся в свои небесные выси, оставив евреев без благой вести. Ненароком не оказать ангелу причитающегося ему почета было, как вы видим, весьма опрометчивым поступком. Как правило, ученый человек воспринимался как потенциальный ангел и встречал соответствующий прием. Вся община собиралась, чтобы приветствовать его и проводить в синагогу, где он произносил благословение hагомель – «избавляющий» — в благодарность за сохранность в пути. Он также мог обратиться к обществу, но это чаще всего происходило в доме учения, а не в синагоге. Затем в его честь устраивался банкет, считавшийся одной из заповеданных Богом трапез – сеудот мицва – на которые благочестивые евреи обязаны были жертвовать деньги и являться самолично. Такая трапеза происходила в общинном зале, использовавшемся, в основном, для свадебных пиров. Когда невеста прибывала издалека, ее выезжала встречать специальная кавалькада, по пути устраивавшая потешные рыцарские турниры. Если встреча происходила после наступления темноты, устраивались факельные шествия. В Италии и на Рейне это были лодочные процессии. Ансамбли музыкантов, нанятые за счет общины, играли веселые марши, и все танцевали и пели. Музыканты часто тоже были странниками, ходившими из города в город, и еврейские исполнители очень часто нанимались для христианских и мусульманских празднеств, точно так же, как евреи нанимали христианских и арабских музыкантов для увеселений на еврейских праздниках и встречах субботы.
Еврейский путешественник, вроде Авраама Ибн Эзры, был не нытиком, но добродушным критиком окружающей его жизни. Он страдал, но был достаточно беззаботен, чтобы сочинять остроумные эпиграммы и импровизировать игривые питейные песни. Он был искусным игроком в шахматы и, несомненно, сыграл важную роль в распространении этой восточной игры на Западе. Другой услугой, оказанной человечеству такими путешественниками, было распространение учености посредством их переводов. Странствия делали их великими лингвистами, и таким образом, куда бы они ни отправлялись, они были способны переводить медицинские, астрономические и естественнонаучные труды. Короли и властители также отправляли их в специальные экспедиции для сбора новых навигационных приборов. Так, «посох Яакова» (baculus), который помог Колумбу открыть Америку, был изобретен французским евреем (Леви Бен Гершомом) — прим. переводчика)и завезен в Португалию его единоверцами. Евреи пользовались большим спросом в качестве странствующих докторов и, в особо важных случаях, их зачастую выписывали издалека. Они были не только в числе трубадуров, но и в числе наиболее знаменитых странствующих conteurs. Берехия, Альхаризи, Забара, Авраам ибн Хасдай и другие еврейские вечные странники помогли принести в Европу Эзопа, Бидпаи, буддистские легенды, и были отчасти ответственны за этот богатый поэтический дар западному миру.
Оглядываясь назад на свою жизнь, Ибн Эзра вполне мог разглядеть за невзгодами и горестями руку Провидения. Поэтому он столь по-еврейски сохраняет свою веру в высший промысел и, после всех передряг посреди бушующего моря жизни, вспоминая благотворные для других, если не для него самого, последствия собственных путешествий, может написать в характерном для него стиле:
Господь мои упования загодя знает,
Жизнь мою в сладость всегда обращает,
Когда ж Его раб во прах упадает,
Он немедля его на ноги поднимает.
В одеждах милости Своей Он скрывает
Всякий мой грех и зло забывает,
И лик Свой благой, что вину мне прощает,
Творец от меня вовек не отвращает.
На неблагодарность черную отвечает,
Добром неизменным меня привечая.
Остается еще рассказать о великих путешественниках-купцах. Они плавали вокруг всего мира, привозя в Европу всю роскошь Востока – экзотические продукты и редкостные изделия. Их странствия были сопряжены с особыми и разнообразными опасностями. Кораблекрушение могло стать участью любого путешественника, но они особенно часто становились жертвами пленения и продажи в рабство. Среди более естественных тягот их жизни я бы поставил на первое место средневековое законодательство о мостах. Мосты часто облагались специальными еврейскими налогами. В Англии до 1290 года еврей платил налог в полпенни, если шел пешком, и в целый пенни, если ехал верхом – совсем немалые по тем временам деньги. Мертвый еврей облагался сбором в восемь пенсов. Захоронение долгое время было законным исключительно в Лондоне, и сумма всех налогов за доставку мертвого тела в Лондон через все мосты была весьма существенной. В Курпфальце еврейскому путешественнику приходилось платить обычный «белый грош» за каждую милю, но, кроме того, еще и большой общий сбор за всю поездку. Если его ловили без лицензии на выезд, то немедленно арестовывали. Но расходы делались вовсе невыносимыми, когда он доходил до моста. Ловко составленные правила гласили, что евреи подвергались особой пошлине только по воскресеньям и церковным праздникам, но каждый второй день был праздником какого-нибудь святого. Кроме того, если, например, в Мангейме даже в эти дни христианский пешеход платил один крейцер, а всадник – два, то с еврея брали четыре крейцера, если он шел пешком, и двенадцать – если ехал верхом, а за каждое вьючное животное он, в отличие от христианина, платил еще по восемь крейцеров. Еврейский квартал нередко располагался возле реки, и евреям часто, даже для местных нужд, приходилось пересекать мосты. В Венеции еврейский квартал был разделен на части мостами. В Риме существовал pons Judeorum, в ремонте и содержании которого евреи, несомненно, принимали участие. Следует помнить, что многие еврейские общины платили регулярный налог на мосты, от которого были освобождены христиане. Имея всё это в виду, мы можем представить себе, что еврейскому купцу приходилось изрядно трудиться и забираться в дальние дали, чтобы извлечь выгоду из своих торговых операций.
Но, несмотря ни на что, евреи владели лошадьми и караванами и плавали на собственных судах еще задолго до той эпохи, когда снискали всемирную известность такие крупные купцы, как английский еврей Антонио Фернандес Карвахал, суда которого поддерживали постоянный обмен товарами между Канарскими островами и Лондоном. Мы знаем о том, что уже в третьем веке палестинские евреи и в пятом — итальянские владели собственными судами. Средиземное море, напоминавшее современникам «еврейское озеро», буквально кишело еврейскими моряками. Наиболее популярными были два торговых маршрута. Бизли пишет: «Одним путем евреи плавали из портов Франции и Италии к Суэцу, и оттуда, через Красное море, в Индию и более отдаленную Азию. Другим путем они доставляли западные товары на побережье Сирии, оттуда шли вверх по Оронтесу к Антиохии, далее спускались по Евфрату к Басре, а оттуда – по Персидскому заливу к Оману и Южному океану». Кроме того, существовали два основных сухопутных пути. С одной стороны, купцы, выходившие из Испании, пересекали Гибралтарский пролив и двигались от Танжера, вдоль северной границы пустыни, в Египет, Сирию и Персию. Второй, северный, маршрут проходил через Германию и земли славян к низовьям Волги, где купцы, оставив позади реку, переплывали Каспий. Далее они следовали через долину Оксус к Балху и, повернув на северо-восток, пересекали земли тагазгазских тюрков, наконец, выходя к западным границам Китая. Представив себе параметры такого путешествия, мы уже не удивляемся тому, что величайшие авторитеты сходятся во мнении, что в раннем Средневековье, еще до возникновения итальянских торговых республик, евреи были главным связующим звеном между Европой и Азией. Их смелые коммерческие начинания приносили огромную пользу. Евреи не только доставляли в Европу новые продукты и предметы роскоши, но и состояли на службе различных государств в качестве послов и разведчиков. Великий Карвахал снабжал Кромвеля важной информацией, подобно тому, как это делали другие еврейские купцы для других правителей. В XV веке Генрих Португальский обратился к евреям за информацией, касающейся внутренних районов Африки, а чуть позднее король той же страны Жоан получил точную информацию об Индии от двух еврейских путешественников, проведших долгие годы в Ормузе и Калькутте. Можно привести бессчетное количество подобных фактов – еврейский странствующий купец не просто был торговцем, но и исследовал страны и континенты, уделяя особое внимание своим соплеменникам, их численности, занятиям, синагогам, школам, их достоинствам и порокам.
На самом деле, оказываясь вдали от дома, еврейский путешественник чувствовал себя как дома, в большей степени, чем многие его христианские современники, остававшиеся в своих местах. Он поддерживал чувство единства иудаизма, которое еще и потому было полным и вполне естественным, что не существовало политических противоречий, способных вызвать раскол евреев на враждующие лагеря.
Но с домом путешественник был связан иными узами, представляющими для нас особый интерес. Важнейшим аспектом еврейских странствий было писание писем домой. «Книга Благочестивых», составленная около 1200 года, свидетельствует: «Уезжающий из родного города, в котором живут его отец и мать, и отправляющийся в опасное место, оставляя отца и мать в тревоге за него, свято обязан в самое кратчайшее время, насколько это в его силах, нанять посланника и передать с ним письмо к отцу и матери, сообщающее им о его благополучном отбытии из опасного места, дабы их тревога была рассеяна». Дважды в год, на Пасху и на Новый Год, все евреи писали семейные письма, а также посылали специальные поздравления на дни рождения. Но главным письмописцем был путешественник. Знаменитый Овадья из Бартануры писал в 1488 году: «О мой батюшка, отъезд мой от тебя причинил тебе горесть и муку, и я безутешен оттого, что вынужден был уехать именно тогда, когда годы стали подступать к тебе. Думая о твоих сединах, которые я более не имею возможности лицезреть, я проливаю из очей моих горькие слезы. Но, если счастие лично служить тебе и отнято у меня, я могу, хотя бы, как было тебе угодно, служить тебе, описывая мою поездку, изливая тебе мою душу, подробно излагая тебе всё то, что я видел, и положение и нравы евреев во всех тех местах, где я пребывал». После пространного и весьма ценного для всякого историка повествования, он заканчивает письмо в своем обычном тоне: «Я нанял для себя дом в Иерусалиме, подле синагоги, к которой обращено мое окно. В одном со мною дворе живут, помимо меня самого, пять женщин и только один мужчина. Он слеп, и жена его заботится обо мне. Благодарение Господу, я избежал недуга, поражающего здесь почти всех путешественников. И я заклинаю тебя: не оплакивай мое отсутствие, но радуйся моею радостью, ибо я пребываю в Святом Граде! Призываю Бога в свидетели, что здесь мысли обо всех моих невзгодах улетучиваются, и лишь один образ стоит перед моими очами — твое дорогое лицо, о, дражайший мой батюшка! Дай же мне ощутить, что я могу вообразить себе это лицо, не омраченное слезами, но освещенное радостию. Вокруг тебя остаются другие твои дети; сделай же их своею радостию, и да станут письма мои, кои я не престану отправлять к тебе, утешением твоих преклонных лет, так же, как твои письма приносят утешение мне».
Письма отцов к их семьям, однако, гораздо многочисленнее, чем эпистолы сыновей к отцам. Когда такие письма приходили из Палестины, в них всегда присутствовало то же ощущение благочестивой радости и человеческой скорби – радости пребывания в Святой Земле и скорби отрыва от родного дома. Дополнительным источником печали было запустение и упадок Земли Израиля.
Один такой автор с грустью рассказывает в своем письме, как он шел через рынок прежнего Сиона, изо всех сил стараясь сдержать слезы, чтобы мусульманские соглядатаи не увидели их и не стали бы высмеивать его скорбь. Другой средневековый писатель, Нахманид, достигает в этих строках вершин своего чувства: «Я силой был изгнан из дома, я оставил своих сынов и дочерей, и вместе с дражайшими и сладчайшими существами, взращенными на моих коленах, оставил я там мою душу. Сердце и очи мои пребудут с ними вовек. Но, о, радость дня, встреченного во дворах твоих, о, Иерусалим, плача над руинами оставленной Святая Святых, над останками храма, где мне дозволено было обласкать камни твои, облобызать прах твой и изойти плачем над развалинами твоими! Горько рыдал я, находя радость в слезах моих».
И с этой мыслью мы расстанемся с темой нашего разговора. Кто, как путешественник, способен среди руин, созданных человеком, ощутить надежду на Божественное восстановление. Над глыбами обломков он видит наступающий восход мира. Человечество еще должно пройти через многие испытания и бедствия, прежде чем поднимется новый Иерусалим, чтобы с любовью обнять все народы и всех людей. Но путешественник, более кого бы то ни было, приближает это прекрасное время. Он связывает противоположные берега морей, он сближает народы, демонстрируя людям, как много есть различных способов жить и любить. Он учит их терпимости, делает их гуманнее, показывая им их незнакомых братьев. Именно путешественник приготовляет путь в пустыне, именно он строит посреди запустения столбовую дорогу для Господа.
1911
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: НЕКОД ЗИНГЕРЛюди покидают свои дома по принуждению или по собственной воле. Для евреев оба этих мотива были существенны в полной мере. Движимый собственной нелегкой судьбой, под давлением окружения, еврей был также наделен повышенной долей того любопытства и природной непоседливости, которые часто провоцируют людей добровольно отправляться в дальние и многотрудные странствия. Таким образом, он исполнял свою роль Вечного Жида и вынужденно и, нередко, вполне охотно. Ему нравилось быть гражданином мира, а мир отказывал ему в том единственном месте, которое он мог бы по праву назвать своим.
Гонимое измученное племя,
Где сбросишь ты скитаний долгих бремя?
Нора есть у лисы, гнездо – у птицы,
А у тебя остались лишь гробницы.
(Дж. Г. Байрон. Из «Еврейских мелодий». Перевод Георгия Бена)
Средневековая история наполнена вынужденными странствиями гонимых сынов Израиля. Но нас занимает не жертва преследований и гонений. Путник, о котором пойдет речь – не изгнанник, но путешественник, движимый лишь собственной прихотью. Он вызовет наше восхищение и, возможно, наше сочувствие, но лишь изредка заставит прослезиться. Тема данного эссе – странствия, но не странники, и я намерен вести речь не о самих путешественниках, но о характере их путешествий, о тех условиях, в которых они совершались.
Перед тем как покинуть дом, еврейский путешественник в Средние века обязан был запастись двумя разновидностями паспорта. В те дни ни одна из стран не предоставляла никому настоящей свободы передвижения. Еврей был попросту несколько более скован в этом вопросе, чем другие. В Англии еврей платил феодальный налог, прежде чем выйти в море. В Испании система сборов была чрезвычайно развита – ни один еврей не имел права без специальной лицензии поменять место жительства, даже в пределах одного города. Но вдобавок к государственным налогам, евреи выработали собственные законы, заставлявшие членов общины получать специальное разрешение на выезд.
Причины тому были просты. Прежде всего, еврей не имел права по собственной воле покинуть свою общину, свалив весь гнет королевских поборов на плечи счастливо остающихся. Посему во многих частях Европы и Азии ни один еврей не мог двинуться с места без письменного одобрения своей общины. Его получение, как правило, было обусловлено обещанием путешественника выплачивать долю общественных сборов и в период своего отсутствия. Иногда такой закон применялся и к женщинам. Например, в том случае, когда жительница одного города, выходя замуж, отправлялась жить в другой, ей следовало выделить часть полученного от жениха по брачному контракту капитала на нужды родной конгрегации, если только речь не шла об отъезде в Палестину. Кроме того, существовали иные моральные и коммерческие причины еврейских ограничений свободы передвижения. В синагоге было принято объявлять перед всей общиной о том, что такой-то и такой-то собирается уезжать, и всякий, имеющий к нему претензии, может требовать удовлетворения. Не следует, однако, думать, что такие общинные лицензии не оказывали услуги самому путешественнику. Напротив, они зачастую обеспечивали ему радушный прием в чужих городах, а в Персии служили залогом безопасности – ни один мусульманин не посмел бы игнорировать подорожную, заверенную печатью еврейского патриарха.
По получении двух лицензий – государственной и синагогальной – путешественнику следовало позаботиться о своем костюме. «Одевайся поплоше» — такова была обычная еврейская максима для путника. Насколько такое правило было необходимым можно видеть на примере произошедшего с рабби Петахией, около 1175 года путешествовавшего из Праги в Ниневию. В Ниневии он занемог, и осмотревшие его шахские доктора объявили летальный исход неизбежным. Петахия путешествовал в весьма дорогостоящем платье, а в Персии существовал закон, по которому, если умирал еврейский путешественник, врачи получали половину его имущества. Осознав угрожавшую ему опасность, Петахия поспешил ускользнуть от навязчивых забот монарших докторов, самостоятельно переплыл Тигр на плоту и вскоре поправился. Совершенно очевидно, что для еврейского путешественника было рискованно возбуждать алчность правителей или бандитов ношением богатых одежд. Но, кроме того, еврею предпочтительно было вообще скрывать свое еврейство. Еврейское общественное мнение и законодательство по этому поводу были весьма гибки и не препятствовали своему единоверцу, присоединяясь к христианским караванам, притворяться даже служителем церкви и напевать, в случае необходимости, латинские гимны. В особо опасных случаях он мог повязать тюрбан и имитировать магометанина даже в родных местах. Наиболее замечательным кажется правило, позволявшее еврейке наряжаться в пути мужчиной. Местные законы тоже в какой-то степени учитывали путевые опасности. В Испании еврею разрешалось снимать в пути желтую повязку; в Германии он пользовался той же привилегией, но обязан был за нее заплатить. В некоторых краях эту привилегию приобретала для своих членов еврейская община, восполняя затраты коммунальным сбором. В Риме приезжему разрешалось ходить без повязки первые десять дней по приезде. Однако эти послабления не распространялись на рынки. Еврей создал рынки Средневековья, но был принят на них как нежеланный гость, как «товар», подлежащий налогообложению. Особенно явно это проявлялось в Германии. В 1226 году Лоренц, епископ Бреслау, повелел следовавшим через его владения евреям платить такую же пошлину, какая взималась за продававшихся на рынке рабов.
Еврейский путешественник обычно оставлял жену дома. В некоторых обстоятельствах он мог принудить ее отправиться в путь вместе с собой – например, если он решал поселиться в Палестине. В то же время, жена могла не позволить мужу оставить ее в первый год совместной жизни. Случалось и так, что в дорогу отправлялись целые семьи, однако чаще всего еврейка оставалась дома и лишь изредка участвовала в паломничестве в Иерусалим. Это резко контрастирует с христианским обычаем, ибо христианская женщина была наиболее рьяным пилигримом. На самом деле, паломничества в Святую Землю стали популярны в церковных кругах только благодаря энтузиазму Елены, матери императора Константина, в особенности после того, как в 326 году она нашла «подлинный» крест. Мы, однако, читали о престарелой еврейке, объехавшей большую часть Европы ради того, чтобы помолиться во всех встреченных на пути синагогах.
Сегодня мы знаем из Хроник Ахимааца, что евреи посещали Иерусалим в X веке. Арониус свидетельствует о любопытном происшествии. Между 787 и 813 годами Карл Великий повелел еврейскому купцу, часто посещавшему Палестину и привозившему оттуда дорогие и диковинные товары, разыграть архиепископа Майнцкого, чтобы сбить спесь с этого самодовольного дилетанта. Итак, еврей продал ему за изрядную цену мышь, уверяя, что это редкое животное, привезенное из Иудеи. В начале XI века в Рамле, в четырех часах пути от Яффы, существовала организованная еврейская община с раввинским судом. Но число посещавших Палестину евреев было невелико до тех пор, пока к концу XII века Саладдин окончательно не вернул страну под власть ислама. С тех пор паломничества евреев стали частыми, но подлинный их приток в Святую Землю начался с 1492 года, когда там осело множество изгнанников из Испании, заложивших основу нынешней сефардской общины.
В целом, в Средние века путешествие в Палестину было сопряжено с такими опасностями и лишениями, что решение оставлять жен дома можно считать галантностью со стороны мужей. Да и вообще, еврей, отправлявшийся в дальний путь, чтобы обеспечить семью, не мог позволить жене разделить с ним дорожные тяготы и опасности. В месяце элуле, в 1146 году по христианскому летоисчислению, рабби Симон Благочестивый возвращался из Англии, где прожил много лет, и в ожидании корабля, отправлявшегося в его родной Трир, остановился в Кельне. Неподалеку от Кельна он был убит крестоносцами за отказ принять крещение. Еврейская община города выкупила его тело, чтобы похоронить на еврейском кладбище.
Несомненно, разлуки между супругами были жестокой необходимостью. Еврейский закон, даже в тех странах, где моногамия не была ультимативным требованием, не позволял еврею обеспечивать себя одной женой дома и другой заграницей. У Иосифа Флавия, как нам известно, была одна жена в Тверии и другая в Александрии, подобно обычаю, принятому среди имперских чиновников Рима; однако Талмуд безоговорочно запрещает такую практику, при этом, не запрещая мужчине иметь дома более одной жены. Нам известен случай, когда жена, взбунтовавшаяся в мужнино отсутствие, завела себе нового супруга. В 1271 году Исаак из Эрфурта отправился в торговое путешествие и, хотя он отсутствовал дома лишь с 9 марта до июля следующего года, вернувшись, обнаружил, что жене надоело его ждать. Такие случаи были весьма редки, гораздо чаще случались прямо противоположные. В отсутствие супруга, женская доля была, прямо скажем, незавидной. «Возвращайся или пришли мне развод», — писала одна женщина. «Нет», — отвечал ее муж, «я не волен сделать ни того, ни другого – я еще не добыл для нас достаточно средств, дабы вернуться, но, пред Небесами, люблю тебя и не могу с тобою развестись». Раввин рекомендовал ему дать ей условный развод, предоставляющий ей право на другой брак. в том случае, если он не вернется до определенной даты. Раввины придерживались того мнения, что путешествия наносят ущерб семейной жизни, собственности и репутации. Раввинистическая пословица гласила: «Переезжай из дома в дом – и ты потеряешь рубашку; переезжай из города в город – и ты потеряешь жизнь».
Независимо от того, каковы были цели еврейского путешествия, религиозные ритуалы с самого начала занимали важное место в его подготовке. Дорожная молитва, ведущая свое происхождение из Талмуда, широко известна и потому не требует цитирования. Но один ее раздел столь точно передает в нескольких словах всю степень опасности, что их необходимо здесь привести. Приближаясь к городу, еврей молился: «Да будет воля Твоя привести меня в сохранности в этот город». Войдя в него, он молился: «Да будет воля Твоя вывести меня в сохранности из этого города». А когда он на самом деле удалялся из города, то с благодарностью еще раз повторял столь патетичные и полные горького значения слова.
В первом веке христианской эры многочисленные путешествия сопровождались денежным пожертвованием на храм, посылаемой каждым евреем почти из всех точек обитаемого мира. Филон пишет о евреях по другую сторону Евфрата: «Ежегодно оттуда отправляются посыльные для передачи больших сумм золота и серебра, собранных для храма со всех провинций. Едут они по опасным, трудным и почти непроходимым дорогам, которые, однако, мнятся ими легкими и удобными, ибо прямо ведут их к праведности».
Для облегчения пути применялись и иные методы. Часто дорога сокращалась в воображении путников имевшей широкое хождение верой в то, что можно уменьшить расстояние сверхъестественным путем. О рабби Натронае рассказывали, что он мог в один миг преодолеть расстояние, требующее нескольких дней пути. Биньямин из Туделы рассказывает о том, что Альрои, в XII веке объявивший себя мессией, умел не только становиться невидимым, но и, при помощи Божьего Имени, проделывать десятидневный путь за десять часов. Один еврейский путешественник успокоил шторм на море, произнеся Сакральное Имя, другой – написав это Имя на черепке и бросив его в пучину. «Не тревожься», — сказал он в другой ситуации своему арабскому спутнику, когда на исходе пятницы стали спускаться сумерки, а они всё еще были далеко от дома, «не тревожься, мы прибудем до наступления темноты», и силой сверхъестественного сдержал свое обещание. У Ахимааца мы читаем о подвигах еврея, в X веке странствовавшего по Италии, творившего чудеса и повсюду принимавшегося с восторгом. Это был Аарон из Багдада, сын мельника, который, обнаружив, что лев пожрал крутившего мельничное колесо мула, поймал хищника и заставил его самого выполнять эту работу. Отец, в наказание за занятия магией, на три года отправил его странствовать. Аарон взошел на борт корабля, заверив моряков, что им не следует страшиться ни врагов, ни шторма, ибо он умеет пользоваться Именем. Он сошел на итальянский берег в Гаэте, где вернул человеческий облик человеку, которого ведьма превратила в осла. Это было началом множества чудес. После того он объявился в Бенвенуто. В местной синагоге он обнаружил, что некий юноша, молясь, избегает произносить Божье Имя, тем самым выдавая в себе мертвеца! Затем наш путник идет в Орию, в Бари и так далее. Подобные дива дивные рассказывались и в мидрашах, и в житиях христианских святых.
Но еврей располагал и вполне реальным средством для сокращения пути – увлекательной и поучительной беседой. Мудрецы наставляли: «Не путешествуй с невеждой». Такой спутник, по их мнению, не только мало заботится о безопасности в пути, но и слишком скучен в разговоре, так что путешествовать с ним вместе ничуть не лучше, чем в полном одиночестве. Но Тора повелела говорить о заповедях Божьих в пути, и это, не менее, чем дорожные опасности, делает путешествие в одиночку нежелательным. Мишна осуждает того, кто в пути отвлекается от милой сердцу перипатетика ученой беседы, ради того, чтобы насладиться лицезрением дерева или оленя. Это вовсе не означает, что все евреи были безразличны к красотам природы. Еврейские путешественники часто описывают пейзажи тех мест, в которых они оказываются, и Петахия буквально упивается прекрасными садами Персии, живописуя их яркими красками. Не много найдется описаний шторма на море, равных тому, что во время своего фатального путешествия в Святую Землю оставил Иегуда Галеви. Также и Альхаризи – другой еврейский путешественник, обошедший полмира, слагал на ходу стихи, чтобы унять усталость. Он, возможно, — самый занятный из всех еврейских путешественников. Что может сравниться с его манерой судить о характере встреченных им людей по их гостеприимству или негостеприимству по отношению к себе! Более серьезный путешественник – Маймонид (Рамбам) – вероятно, немало проведенного в седле времени уделял размышлениям, отразившимся в его бессмертных книгах. Он сам сообщает нам, что часть его комментариев к Мишне составлена во время странствий по суше и по морю. Европейские раввины часто служили нескольким соседним общинам, и в свои поездки от одной к другой брали с собой книги для изучения. Магарал (рабби Лёв из Праги) в таких поездках всегда вел записи о замеченных по пути местных обычаях евреев. Этот прославленный раввин был также весьма искусным и успешным шадханом — сватом, и его постоянные переезды создавали для этой деятельности прекрасные условия.
Другим типом путешественника на короткие дистанции был еврейский студент – бахур ешива. Не то чтобы его поездки всегда были короткими, но он редко отправлялся за море. Во втором веке еврейские студенты в Галилее вели себя подобно многим шотландским юношам до возникновения Фонда Карнеги. Они учились в Сепфорисе зимой, а летом работали на полях. После всеобщего обнищания в результате войн Бар Кохбы, они рады были кормиться за столом богатого патриарха Иуды I. Подобное происходило и в средние века. Эти бахурим, зачастую женатые, сколь бы молоды они ни были, проходили пешком огромные расстояния. Они ходили с Рейна в Вену и из Северной Германии в Италию. Их путевые лишения не поддаются описанию. Естественно, они страдали от плохой погоды. Остававшиеся дома обращались к Богу с петицией: «Не слушай молитвы путников». Это странное талмудическое высказывание имеет в виду эгоизм странников и путников, вечно моливших о хорошей погоде, когда земледельцам был необходим дождь. Кроме погоды бахурим страдали от голода – их обычной пищей были сырые овощи, добытые на полях. Часто их учителя были их спутниками и переносили все те же лишения. В отличие от их предшественников эпохи Талмуда, они много путешествовали ночами, и потому, что это было безопаснее, и потому, что дневное время они отводили для занятий. Диетарные законы делали еврейское путешествие особенно хлопотным. Конечно, евреям приходилось останавливаться на обычных постоялых дворах, но они не могли присоединиться к другим постояльцам за tbl d’hote. Суббота тоже осложняла условия путешествий, и особенно важно было достичь какой-либо еврейской общины до окончания пятницы, иногда, как мы уже видели, с помощью сверхъестественных сил.
В самый последний год IV века Синезий, он же Кирен, в письме своему брату, писанному на пути из Александрии в Константинополь, дает нам замечательный пример того, насколько суббота занимала еврейского путешественника. Саркастический тон Синезия не следует воспринимать как проявление серьезной враждебности. Жаль, что пространство данного эссе не дает возможности процитировать это повествование полностью. Его еврейский рулевой, тринадцатый член корабельного экипажа, более половины которого составляли евреи – весьма занятный персонаж. «Был день, коий евреи именуют днем приготовления [пятница], и они считают ночь его частью следующего дня, в коий им запрещено исполнять всякую работу, и они пребывают в праздности, оказывая этому дню особый почет. Посему рулевой, заметив, что солнце заходит, выпустил из рук своих штурвал, пал ниц и не двигался, хоть топчи его ногами! Сначала нам было невдомек, в чем дело, и мы приняли это за знак отчаяния, и приступили к нему с уговорами не оставлять надежды. Ибо, действительно, высокие валы продолжали бушевать, и море боролось само с собою. Так бывает, когда стихает ветер, но поднятые им волны не унимаются, но продолжают следовать вызванному им направлению, и с прежней силою встречают натиск встречного шторма, сходясь с ним в лобовой атаке. Что ж, когда люди оказываются в подобной ситуации, жизнь, как гласит древнее речение, висит на волоске. Но ежели рулевой ваш, в добавок ко всему, – рабби, что ощутили бы вы тогда? Поняв, что он имел в виду, бросая штурвал (ибо, когда мы стали умолять его спасти корабль, он продолжал читать свою книгу), мы, отчаявшись в силе убеждения, попытались применить силу. И доблестный солдат (ибо с нами было несколько арабских кавалеристов) вынул свою саблю и пригрозил снести ему голову, буде он не возьмет корабль в свои руки. Но тот в эту минуту был истинным маккавеем, готовым на всё ради своей догмы. Однако с наступлением полночи он добровольно вернулся на свой пост, ибо, объявил он, ‘теперь закон дозволяет мне это, ибо жизнь наша воистину находится в опасности’. Тут снова начинается суматоха, стоны мужчин и вопли женщин. Все принимаются взывать к небесам, причитать и вспоминать своих любимых и близких. Один Амарант весел, полагая, что скоро он оставит с носом своих кредиторов». (Амарантом звали капитана, желавшего умереть из-за того, что пребывал по уши в долгах.) Итак, с беззаботным капитаном, с рулевым-маккавеем и с ироничным наблюдателем, рьяным приверженцем Гипатии, путешествие редко проходило в более оживленных условиях. Как это часто бывает, комизм ситуации почти заслоняет тот факт, что жизнь персонажей действительно была в реальной опасности. Но всё закончилось хорошо. Синезий продолжает: «Что до нас, то, как только мы достигли долгожданной земли, мы облобызали ее так, словно она была нашей живой матерью. Вознося, как водится, благодарственный гимн Господу, я добавил к нему недавнюю смертельную опасность, от которой мы были, паче чаяния, спасены».
Давайте вернемся от рабби-рулевого к нашему странствующему студенту. В дороге он часто подвергался нападению, но, как это случилось с сыном великого Ашери, атакованного около Толедо бандитами, грабители не всегда одерживали верх в схватке. Бахур мог постоять за себя. Один еврей заслужил большую славу, сопровождая из Багдада во Францию слона, посланного Гаруном Аль-Рашидом в подарок франкскому королю Шарлеманю. Но религия причиняла еврею много забот в пути. Доктор Шехтер рассказывает, как Гаон Элия вышел из своей повозки помолиться, а возница, зная, что рабби не станет прерывать своей молитвы, попросту уехал, присвоив имущество Гаона.
Но, страдая за свою религию, ученый еврей получал изрядную компенсацию. Прибывая к месту своего назначения, он удостаивался сердечной встречи. Мы читаем о том, с какой сердечностью принимали в Алжире XV-XVIII веков посланника из дома учения. Это было большим событием для всей общины, напоминающим нынешний визит инспектора Aliance Israelite.
Но вовсе не все еврейские путешественники могли рассчитывать на теплый прием своих соплеменников. Чем это можно объяснить? Главным образом, тем, что евреи, подобно прочим народам Средневековья, очень мало сознавали, что прогресс и просвещение неразрывно связаны со свободой передвижения, и воспринимали последнюю как прихоть немногих эгоистов, а не как законное право каждого. Более того, евреи были принуждены жить в условиях, в которых нелегко было найти место для новоприбывших. Когда случался кризис, подобный изгнанию из Испании, евреи щедро помогали изгнанникам. Общины по всей Европе и по всему Средиземноморью тратили огромные деньги, силы и время, выкупая несчастных жертв, захваченных в рабство капитанами увозивших их из Испании кораблей. Это славный факт еврейской истории. Он, однако, не отменяет того факта, что в обычные времена еврейские общины крайне неохотно допускали на своей территории новые поселения собственных иноземных братьев. Всё было иначе в древние времена. Среди ессеев, например, новоприбывший имел во всем равные права со старожилами. Эти ессеи были великими странниками, переходившими из города в город, возможно, с миссионерскими целями. В талмудическом законе существуют четкие правила, касательно проезжих и иммигрантов. По этим законам, остававшиеся в городе менее тридцати дней были освобождены от всех местных сборов, кроме специальных пожертвований в пользу бедных. Остававшийся менее чем на год, вносил долю в обычный сбор в пользу бедных, но был освобожден от налогов на оборону, на ремонт городских стен и тому подобного, а также не платил взносов ни на жалование для учителей и чиновников, ни на строительство и содержание синагог. Но и права его были столь же невелики, как и обязанности. После двенадцати месяцев пребывания, он становился «сыном города» — полноправным членом общины. Однако в Средние века, как уже говорилось, новоприбывший обычно был нежеланным элементом. Проблема места была важной тому причиной, поскольку все новички должны были оставаться в пределах выделенного для евреев гетто. Во-вторых, пришелец плохо поддавался дисциплине. Местные обычаи сильно разнились в деталях как еврейского, так и общего законодательства. Новый поселенец мог требовать для себя права придерживаться своих прежних обычаев, и приверженность к местным обычаям была настолько сильна повсюду, что эти требования зачастую удовлетворялись, что вело к разрушению единства и к ослаблению власти. Так, например, новоприбывший мог настаивать, что, поскольку он играл в карты в своем родном городе, он не обязан следовать царящим на новом месте пуританским запретам. В результате этого, местные евреи могли начать возмущаться приезжими, пользующимися специальными привилегиями, поскольку из-за них сводились на нет все усилия по борьбе с азартными играми. Или приезжий мог настаивать на бритье бороды, согласно традиции своей родины, что вызывало скандал в том городе, где он останавливался. Местная молодежь могла начать подражать иностранцу! То же самое могло произойти, если приезжий носил одежду или украшения, запрещенные местным евреям. К тому же, могли возникнуть брачные проблемы, когда злонамеренные женатые иностранцы прикидывались холостяками. Что до литургии, то община часто распадалась из-за отдельных служб, устраиваемых группами чужаков, и приходилось запрещать членам местной общины посещать синагоги иностранных поселенцев. Баланс коммунальных налогов также нарушался с появлением посторонних, часто вызывавшим ложившиеся на плечи старожилов новые поборы со стороны правительства.
Конечно же, противостояние не было ни постоянным, ни однозначным. В Риме итальянские и сефардские евреи по-братски располагали свои синагоги на двух этажах одного и того же общего здания. В некоторых немецких городах иностранная синагога строилась на одном общем дворе с местной. Повсюду жили целые сообщества иноземных евреев, и повсюду истинный путешественник мог найти радушный прием.
Что до странствующего нищего, то он был постоянной обузой, но к нему относились с изрядной долей снисхождения и заботы. Он никогда не стремился осесть на месте – странствие было его ремеслом, приносившим пропитание. Его устраивали на пару дней на общинном постоялом дворе или, если он появлялся перед наступлением субботы, как это часто случалось, его привечал какой-нибудь гостеприимный горожанин или синагогальный служка. Только с XIII века появляются постоянные посланцы, собирающие пожертвования для жителей Палестины.
Так или иначе, желанным гостем всегда был подлинный путешественник. Если он появлялся в ярмарочный день, то почти всегда освобождался общиной от уплаты местных налогов. И он заслуживал гостеприимства, поскольку появлялся нагруженным не только новыми товарами, но и новыми книгами. Ярмарка была единственным в те времена книжным рынком. В прочие сезоны евреи зависели от случайных заходов бродячих книгонош. Книготорговля не была респектабельным бизнесом в Средние века. Торговец, приезжавший на ярмарку, выполнял также функцию свата. День ярмарки был, в сущности, вершиной всего года. Естественно, радушно встречался и письмоносец. В самом начале XVIII века роль письмоносцев иногда исполнялась еврейскими женщинами.
Даже обычный путешественник, не побуждаемый каким-нибудь торговым предприятием, часто выбирал ярмарочное время для посещения новых мест, ибо тогда он наверняка мог повстречать самых интересных людей. Он тоже обычно появлялся на исходе пятницы и украшал день субботний рассказами о виденных им чудесах света. В большой синагоге Сепфориса Йоханан повествовал об огромной жемчужине, настолько гигантской, что восточные ворота храма должны были быть вырезаны из нее одной. «О да, о да», -подтвердил один из слушателей, слывший завзятым скептиком до пережитого им кораблекрушения, «если бы я своими глазами не увидел такую жемчужину на дне моря, то ни за что бы не поверил!» И вот средневековый путешественник рассказывает свои захватывающие дух истории о могущественнейшем еврейском царстве на Востоке, пребывающем в идиллии мира и благоденствия. Он возбуждает аудиторию новостями о последнем мессии; он описывает реку Самбатион, соблюдающую шаббат; смешивая правду с выдумкой, он сначала излагает подлинное происшествие, вспоминая, как сам переплыл реку на надутом козлином мехе, и тут же сочиняет с три короба о гробнице Гиллеля, о том, как он там был и как видел там большой полый камень, который остается пустым, если в него входит грешник, но при приближении праведника наполняется сладкой кристально чистой водой, омывшись которой можно удостоится исполнения загаданного при этом желания. Всех чудес, творящихся в гробницах, просто и не перечислишь! Евреи свято верили в их сверхъестественную силу, совершая к ним паломничества, чтобы помолиться и попросить о самом заветном. Рассказы средневековых еврейских путешественников до краев наполнены этими легендами. Конечно, путешественник приносил множество правдивых новостей о своих соплеменниках в разных частях света и достоверную информацию о дальних странах, об их обычаях, их странных птицах и тварях. Эти истории были в своей основе правдивыми. Например, Петахия рассказывает о летучем верблюде, который бегает в пятнадцать раз быстрее скаковой лошади. Должно быть, он видел страуса, до сих пор именуемого арабами «летучим верблюдом», и только совсем немного преувеличил. Но мы не имеем возможности надолго задерживаться на этой теме. Достаточно сказать, что, как только суббота заканчивалась, повествование путешественника записывалось местным писцом и хранилось в качестве одного из сокровищ общины. Путешественник, со своей стороны, часто вел дневник, и сам составлял описание своих приключений. В некоторых конгрегациях велась общинная книга записей, в которую заносились суждения и постановления заезжих раввинов.
Самыми желанными из гостей, даже более желанными, чем путешественники, повидавшие дальние края и объехавшие весь мир, были странствующие раввины. Большинство мудрецов Талмуда были странниками. Частые путешествия Акивы были, по распространенному мнению, предприняты ради привлечения евреев Малой Азии к восстанию против императора Адриана. Но мой рассказ в данном случае должен сосредоточиться на средневековых студентах – бахурим. Во многих общинах для них существовал специальный дом, в котором они жили вместе со своими учителями. В XII веке академия Нарбонна, руководимая Авраамом ибн Даудом, привлекала толпы иностранных студентов. Их, как рассказывает нам Биньямин из Туделы, кормили и одевали на средства общины. В Бокэре студенты жили за счет учителя. В XVII веке каждый дом принимал и развлекал за своим столом одного или нескольких студентов. В таких обстоятельствах жизнь их никак не могла быть скучной и монотонной. Еврейский студент переносил немало лишений, но знал, как подойти к жизни с ее лучшей стороны. Этот оптимизм и чувство юмора спасали рабби и его учеников от меланхолии. Взять, к примеру, Авраама ибн Эзру. Кому как не ему, казалось бы, было суждено стать горьким плакальщиком собственной судьбы, но он смеялся над нею. Покинув родную Испанию без гроша в кармане, он весело странствовал из страны в страну. Единственным его багажом были мысли. Он побывал во Франции и добрался даже до Лондона, где, вероятно, и умер. Фортуна не баловала его, но он находил немало радостей. На всем его пути покровители протягивали ему руку помощи.
Странствующие студенты встречали немало таких щедрых любителей учености, которые, не жалея средств, поощряли своих гостей к написанию оригинальных книг или к копированию старых, которые, в отсутствие библиотек, эти меценаты передавали неимущим ученым. Ходила легенда о том, как пророк Элия посетил Хеврон, но не был вызван к Торе в тамошней синагоге. Не получив «восхождения» на земле, он вернулся в свои небесные выси, оставив евреев без благой вести. Ненароком не оказать ангелу причитающегося ему почета было, как вы видим, весьма опрометчивым поступком. Как правило, ученый человек воспринимался как потенциальный ангел и встречал соответствующий прием. Вся община собиралась, чтобы приветствовать его и проводить в синагогу, где он произносил благословение hагомель – «избавляющий» — в благодарность за сохранность в пути. Он также мог обратиться к обществу, но это чаще всего происходило в доме учения, а не в синагоге. Затем в его честь устраивался банкет, считавшийся одной из заповеданных Богом трапез – сеудот мицва – на которые благочестивые евреи обязаны были жертвовать деньги и являться самолично. Такая трапеза происходила в общинном зале, использовавшемся, в основном, для свадебных пиров. Когда невеста прибывала издалека, ее выезжала встречать специальная кавалькада, по пути устраивавшая потешные рыцарские турниры. Если встреча происходила после наступления темноты, устраивались факельные шествия. В Италии и на Рейне это были лодочные процессии. Ансамбли музыкантов, нанятые за счет общины, играли веселые марши, и все танцевали и пели. Музыканты часто тоже были странниками, ходившими из города в город, и еврейские исполнители очень часто нанимались для христианских и мусульманских празднеств, точно так же, как евреи нанимали христианских и арабских музыкантов для увеселений на еврейских праздниках и встречах субботы.
Еврейский путешественник, вроде Авраама Ибн Эзры, был не нытиком, но добродушным критиком окружающей его жизни. Он страдал, но был достаточно беззаботен, чтобы сочинять остроумные эпиграммы и импровизировать игривые питейные песни. Он был искусным игроком в шахматы и, несомненно, сыграл важную роль в распространении этой восточной игры на Западе. Другой услугой, оказанной человечеству такими путешественниками, было распространение учености посредством их переводов. Странствия делали их великими лингвистами, и таким образом, куда бы они ни отправлялись, они были способны переводить медицинские, астрономические и естественнонаучные труды. Короли и властители также отправляли их в специальные экспедиции для сбора новых навигационных приборов. Так, «посох Яакова» (baculus), который помог Колумбу открыть Америку, был изобретен французским евреем (Леви Бен Гершомом) — прим. переводчика)и завезен в Португалию его единоверцами. Евреи пользовались большим спросом в качестве странствующих докторов и, в особо важных случаях, их зачастую выписывали издалека. Они были не только в числе трубадуров, но и в числе наиболее знаменитых странствующих conteurs. Берехия, Альхаризи, Забара, Авраам ибн Хасдай и другие еврейские вечные странники помогли принести в Европу Эзопа, Бидпаи, буддистские легенды, и были отчасти ответственны за этот богатый поэтический дар западному миру.
Оглядываясь назад на свою жизнь, Ибн Эзра вполне мог разглядеть за невзгодами и горестями руку Провидения. Поэтому он столь по-еврейски сохраняет свою веру в высший промысел и, после всех передряг посреди бушующего моря жизни, вспоминая благотворные для других, если не для него самого, последствия собственных путешествий, может написать в характерном для него стиле:
Господь мои упования загодя знает,
Жизнь мою в сладость всегда обращает,
Когда ж Его раб во прах упадает,
Он немедля его на ноги поднимает.
В одеждах милости Своей Он скрывает
Всякий мой грех и зло забывает,
И лик Свой благой, что вину мне прощает,
Творец от меня вовек не отвращает.
На неблагодарность черную отвечает,
Добром неизменным меня привечая.
Остается еще рассказать о великих путешественниках-купцах. Они плавали вокруг всего мира, привозя в Европу всю роскошь Востока – экзотические продукты и редкостные изделия. Их странствия были сопряжены с особыми и разнообразными опасностями. Кораблекрушение могло стать участью любого путешественника, но они особенно часто становились жертвами пленения и продажи в рабство. Среди более естественных тягот их жизни я бы поставил на первое место средневековое законодательство о мостах. Мосты часто облагались специальными еврейскими налогами. В Англии до 1290 года еврей платил налог в полпенни, если шел пешком, и в целый пенни, если ехал верхом – совсем немалые по тем временам деньги. Мертвый еврей облагался сбором в восемь пенсов. Захоронение долгое время было законным исключительно в Лондоне, и сумма всех налогов за доставку мертвого тела в Лондон через все мосты была весьма существенной. В Курпфальце еврейскому путешественнику приходилось платить обычный «белый грош» за каждую милю, но, кроме того, еще и большой общий сбор за всю поездку. Если его ловили без лицензии на выезд, то немедленно арестовывали. Но расходы делались вовсе невыносимыми, когда он доходил до моста. Ловко составленные правила гласили, что евреи подвергались особой пошлине только по воскресеньям и церковным праздникам, но каждый второй день был праздником какого-нибудь святого. Кроме того, если, например, в Мангейме даже в эти дни христианский пешеход платил один крейцер, а всадник – два, то с еврея брали четыре крейцера, если он шел пешком, и двенадцать – если ехал верхом, а за каждое вьючное животное он, в отличие от христианина, платил еще по восемь крейцеров. Еврейский квартал нередко располагался возле реки, и евреям часто, даже для местных нужд, приходилось пересекать мосты. В Венеции еврейский квартал был разделен на части мостами. В Риме существовал pons Judeorum, в ремонте и содержании которого евреи, несомненно, принимали участие. Следует помнить, что многие еврейские общины платили регулярный налог на мосты, от которого были освобождены христиане. Имея всё это в виду, мы можем представить себе, что еврейскому купцу приходилось изрядно трудиться и забираться в дальние дали, чтобы извлечь выгоду из своих торговых операций.
Но, несмотря ни на что, евреи владели лошадьми и караванами и плавали на собственных судах еще задолго до той эпохи, когда снискали всемирную известность такие крупные купцы, как английский еврей Антонио Фернандес Карвахал, суда которого поддерживали постоянный обмен товарами между Канарскими островами и Лондоном. Мы знаем о том, что уже в третьем веке палестинские евреи и в пятом — итальянские владели собственными судами. Средиземное море, напоминавшее современникам «еврейское озеро», буквально кишело еврейскими моряками. Наиболее популярными были два торговых маршрута. Бизли пишет: «Одним путем евреи плавали из портов Франции и Италии к Суэцу, и оттуда, через Красное море, в Индию и более отдаленную Азию. Другим путем они доставляли западные товары на побережье Сирии, оттуда шли вверх по Оронтесу к Антиохии, далее спускались по Евфрату к Басре, а оттуда – по Персидскому заливу к Оману и Южному океану». Кроме того, существовали два основных сухопутных пути. С одной стороны, купцы, выходившие из Испании, пересекали Гибралтарский пролив и двигались от Танжера, вдоль северной границы пустыни, в Египет, Сирию и Персию. Второй, северный, маршрут проходил через Германию и земли славян к низовьям Волги, где купцы, оставив позади реку, переплывали Каспий. Далее они следовали через долину Оксус к Балху и, повернув на северо-восток, пересекали земли тагазгазских тюрков, наконец, выходя к западным границам Китая. Представив себе параметры такого путешествия, мы уже не удивляемся тому, что величайшие авторитеты сходятся во мнении, что в раннем Средневековье, еще до возникновения итальянских торговых республик, евреи были главным связующим звеном между Европой и Азией. Их смелые коммерческие начинания приносили огромную пользу. Евреи не только доставляли в Европу новые продукты и предметы роскоши, но и состояли на службе различных государств в качестве послов и разведчиков. Великий Карвахал снабжал Кромвеля важной информацией, подобно тому, как это делали другие еврейские купцы для других правителей. В XV веке Генрих Португальский обратился к евреям за информацией, касающейся внутренних районов Африки, а чуть позднее король той же страны Жоан получил точную информацию об Индии от двух еврейских путешественников, проведших долгие годы в Ормузе и Калькутте. Можно привести бессчетное количество подобных фактов – еврейский странствующий купец не просто был торговцем, но и исследовал страны и континенты, уделяя особое внимание своим соплеменникам, их численности, занятиям, синагогам, школам, их достоинствам и порокам.
На самом деле, оказываясь вдали от дома, еврейский путешественник чувствовал себя как дома, в большей степени, чем многие его христианские современники, остававшиеся в своих местах. Он поддерживал чувство единства иудаизма, которое еще и потому было полным и вполне естественным, что не существовало политических противоречий, способных вызвать раскол евреев на враждующие лагеря.
Но с домом путешественник был связан иными узами, представляющими для нас особый интерес. Важнейшим аспектом еврейских странствий было писание писем домой. «Книга Благочестивых», составленная около 1200 года, свидетельствует: «Уезжающий из родного города, в котором живут его отец и мать, и отправляющийся в опасное место, оставляя отца и мать в тревоге за него, свято обязан в самое кратчайшее время, насколько это в его силах, нанять посланника и передать с ним письмо к отцу и матери, сообщающее им о его благополучном отбытии из опасного места, дабы их тревога была рассеяна». Дважды в год, на Пасху и на Новый Год, все евреи писали семейные письма, а также посылали специальные поздравления на дни рождения. Но главным письмописцем был путешественник. Знаменитый Овадья из Бартануры писал в 1488 году: «О мой батюшка, отъезд мой от тебя причинил тебе горесть и муку, и я безутешен оттого, что вынужден был уехать именно тогда, когда годы стали подступать к тебе. Думая о твоих сединах, которые я более не имею возможности лицезреть, я проливаю из очей моих горькие слезы. Но, если счастие лично служить тебе и отнято у меня, я могу, хотя бы, как было тебе угодно, служить тебе, описывая мою поездку, изливая тебе мою душу, подробно излагая тебе всё то, что я видел, и положение и нравы евреев во всех тех местах, где я пребывал». После пространного и весьма ценного для всякого историка повествования, он заканчивает письмо в своем обычном тоне: «Я нанял для себя дом в Иерусалиме, подле синагоги, к которой обращено мое окно. В одном со мною дворе живут, помимо меня самого, пять женщин и только один мужчина. Он слеп, и жена его заботится обо мне. Благодарение Господу, я избежал недуга, поражающего здесь почти всех путешественников. И я заклинаю тебя: не оплакивай мое отсутствие, но радуйся моею радостью, ибо я пребываю в Святом Граде! Призываю Бога в свидетели, что здесь мысли обо всех моих невзгодах улетучиваются, и лишь один образ стоит перед моими очами — твое дорогое лицо, о, дражайший мой батюшка! Дай же мне ощутить, что я могу вообразить себе это лицо, не омраченное слезами, но освещенное радостию. Вокруг тебя остаются другие твои дети; сделай же их своею радостию, и да станут письма мои, кои я не престану отправлять к тебе, утешением твоих преклонных лет, так же, как твои письма приносят утешение мне».
Письма отцов к их семьям, однако, гораздо многочисленнее, чем эпистолы сыновей к отцам. Когда такие письма приходили из Палестины, в них всегда присутствовало то же ощущение благочестивой радости и человеческой скорби – радости пребывания в Святой Земле и скорби отрыва от родного дома. Дополнительным источником печали было запустение и упадок Земли Израиля.
Один такой автор с грустью рассказывает в своем письме, как он шел через рынок прежнего Сиона, изо всех сил стараясь сдержать слезы, чтобы мусульманские соглядатаи не увидели их и не стали бы высмеивать его скорбь. Другой средневековый писатель, Нахманид, достигает в этих строках вершин своего чувства: «Я силой был изгнан из дома, я оставил своих сынов и дочерей, и вместе с дражайшими и сладчайшими существами, взращенными на моих коленах, оставил я там мою душу. Сердце и очи мои пребудут с ними вовек. Но, о, радость дня, встреченного во дворах твоих, о, Иерусалим, плача над руинами оставленной Святая Святых, над останками храма, где мне дозволено было обласкать камни твои, облобызать прах твой и изойти плачем над развалинами твоими! Горько рыдал я, находя радость в слезах моих».
И с этой мыслью мы расстанемся с темой нашего разговора. Кто, как путешественник, способен среди руин, созданных человеком, ощутить надежду на Божественное восстановление. Над глыбами обломков он видит наступающий восход мира. Человечество еще должно пройти через многие испытания и бедствия, прежде чем поднимется новый Иерусалим, чтобы с любовью обнять все народы и всех людей. Но путешественник, более кого бы то ни было, приближает это прекрасное время. Он связывает противоположные берега морей, он сближает народы, демонстрируя людям, как много есть различных способов жить и любить. Он учит их терпимости, делает их гуманнее, показывая им их незнакомых братьев. Именно путешественник приготовляет путь в пустыне, именно он строит посреди запустения столбовую дорогу для Господа.
1911
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: НЕКОД ЗИНГЕР